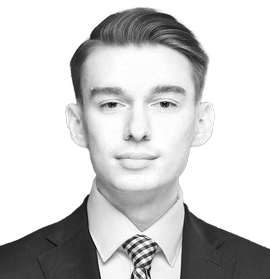В Обзоре ВС РФ отмечает важность правильного распределения бремени доказывания, учитывая объективно ограниченные возможности кредитора в сборе доказательств, и возлагает бремя доказывания на КДЛ (кредитор доказывает только наличие и размер задолженности, наличие у должника признаков недействующего юридического лица и то, что ответчики являлись КДЛ). Выделим из всего Обзора топ-5 разъяснений:
1. Необязательно ждать исключения должника из ЕГРЮЛ.
В пунктах 2 и 7 Обзора ВС РФ высказывает ключевую позицию: фактически недействующее юридическое лицо, которое все еще находится в ЕГРЮЛ, по существу ничем не отличается от уже ликвидированного юридического лица, в связи с чем нельзя уменьшать уровень защищенности кредиторов. Этот вывод важен, так как сейчас суды проводят водораздел именно по этому обстоятельству: если должник все еще есть в ЕГРЮЛ, то они отправляют его «банкротить», а в иске к КДЛ отказывают, что представляется неверным подходом, учитывая, что недобросовестные КДЛ намеренно держат свои общества на плаву и подают возражения на предстоящее исключение, пытаясь не допустить их ликвидации.
2. Кредитору необязательно представлять возражения относительно исключения должника из ЕГРЮЛ, чтобы иметь право обратиться с иском к КДЛ.
Устранен ошибочный подход судов: кредитор мог предотвратить исключение должника из ЕГРЮЛ, подав возражение, а если он этого не сделал, то в иске ему надлежит отказать. ВС РФ указал, что кредитор даже при неподаче им возражений может подать иск к КДЛ.
3. Подсудность — арбитражный суд по месту нахождения должника — ЮЛ.
До появления Обзора к выводу о подсудности таких споров арбитражным судам также можно было прийти исходя из корпоративного характера спора (ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ), однако с территориальной подсудностью (то есть в арбитражный суд какого региона подавать иск) вопрос был неразрешенным. При этом было много случаев, когда заявители обращались в районный суд, исходя из того, что ответчиком является гражданин, а юрлицо уже не существует, и тот принимал заявление к производству. Теперь в вопросе подсудности поставлена точка. При этом ВС РФ распространил на такие иски запрет на «банкротный туризм»: если КДЛ после возникновения задолженности перед кредитором изменяет место нахождения юрлица на другой, труднодоступный для кредитора регион, то дело подлежит рассмотрению в первоначальном регионе ЮЛ.
4. Наличие судебного решения о взыскании долга необязательно для иска о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности. Надеемся, что данное разъяснение прекратит практику нижестоящих судов отказывать в исках к КДЛ по той причине, что долг не просужен.
5. На сумму долга КДЛ, возникшего в результате привлечения к субсидиарной ответственности, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ (по аналогии с обязательствами из причинения вреда). Видимо, разъяснение родилось из-за большого количества попыток взыскать договорную неустойку с КДЛ, что неправомерно.