Верховный суд РФ уточнил ключевые аспекты банкротства: новый обзор для практиков
Новый обзор1 ВС РФ содержит 25 правовых позиций, среди которых важные разъяснения по оспариванию сделок и ответственности контролирующих лиц и т.д. Опрошенные «ЭЖ-Юристом» эксперты согласились с тем, что высказанные в Обзоре позиции позволят обеспечить более высокий уровень разрешения правовых споров на практике. Какие из подходов они выделили, читайте в материале.
Опубликовано:«ЭЖ-Юрист» №17 (1366) 2025
Материал для подписчиков издания «ЭЖ-Юрист». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
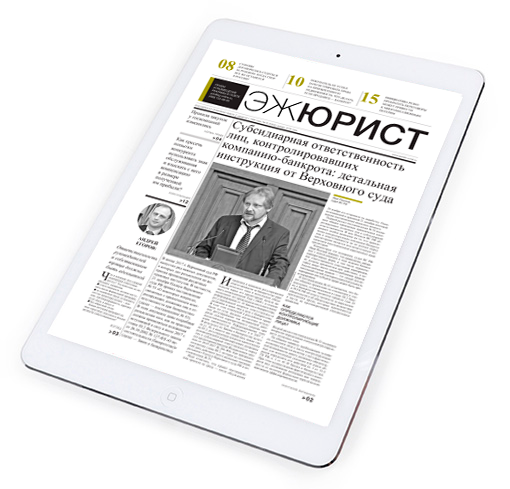
ЭЖ-Юрист
Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.
