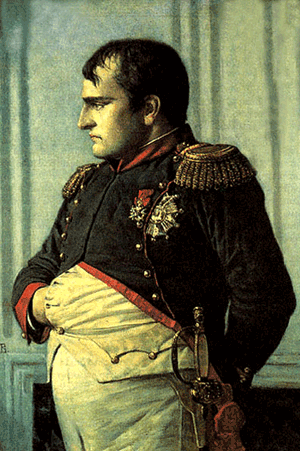За день до вступления французских войск случилось в Москве одно странное происшествие. Летевший по небу ястреб с какими-то веревками на ногах столкнулся вдруг с двуглавым орлом на Сухаревской башне и совсем тут запутался. Долго бил он крылами, но, обессиленный, прокричал что-то и издох. «Это не просто так, — молвил кто-то в толпе, — так и злодей Бонапарт запутается в крыльях русского орла». Непременную гибель «злодея» предсказывал тогда и Николай Карамзин. «Все военные успехи Наполеона – от дерзости, — убеждал он московского генерал-губернатора, — от нее же он и погибнет». «Вы думаете? – возразил ему Ростопчин. — Вот увидите, он вывернется!»
Ростопчин был чрезвычайно деятелен в ту войну. Подводы с продовольствием, боеприпасами, подводы для раненых, подводы для вывоза из Москвы имущества. Курьеры, курьеры... 35 000 одних курьеров! Не все и здесь успевал, а еще и хвастливые афишки писал. Бравый мещанин Корнюшка Чигирин укорял в них Наполеона: «Полно тебе фиглярить; вить солдаты-то твои карлики да щегольки. Ну где им русское житье-бытье вынести?»
Дворяне, брезгливо морщась, отказывались верить в «карликов» и «щегольков», но и особенного страха у них не было. Думали, что после двух-трех побед французы принудят Россию к миру, но отнюдь не обидному: ну, заставят нас отвернуться от Англии, ну, может, еще и отнимут что-нибудь на окраине… В то, что Наполеон запутается в лапах русского орла, поверить было никак не возможно. Разве что допустив, что он человек обыкновенный. Тогда да, тогда «русского житья-бытья» он не вынесет. Но кто в ту пору принимал его за обыкновенного человека? Многие полагали даже, что он вообще «существо потустороннее»!
В войне с ним рассчитывать можно было только на отчаянную храбрость русских солдат и какое-то чудо. Кутузов, знаем, молился. Ростопчин приготавливал в своем имении еще и секретное оружие. Полусотня воздушных шаров должна была подойти к неприятелю и сбросить на него ящики с порохом. В результате были бы «опрокинуты целые эскадроны». Наполеон, разумеется, тоже узнал о диковинном оружии. Сначала ему сообщили «о зажигательном шаре, должном погубить французскую армию». Потом уточнили, что на шаре русские будут искать императора, чтобы обрушить на него «целый дождь огня и металла». Ростопчин не мог позволить себе таких подробностей, но и совсем уж ничего не сказать было выше его сил. «Здесь мне было поручено от государя, — хвастался он в афишке, — сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят».
Пятьдесят человек, двигающиеся по воздуху «куда захотят», оказались бы хорошим подспорьем для Кутузова, и он запрашивает у Ростопчина инструкции об аэростате: «Прошу мне сказать, как употребить его удобнее». Но к этому времени генерал-губернатору уже вполне было ясно, что ничего путного с шаром не выйдет. Рассерженный, он даже обозвал сооружавшего его Леппиха «сумасшедшим шарлатаном». Смахивали в чем-то на «шарлатанство» и действия самого Ростопчина. Кампанию по выдворению из Москвы иностранцев он начал с того, что обвинил в шпионаже собственного повара, который и был высечен прилюдно. Под горячую руку Ростопчина попали тогда и масоны — почт-директор Ключарев и известный издатель Новиков, прикрывавшие, по мнению генерал-губернатора, купеческого сына Верещагина, автора сделавшегося популярным перевода речи Наполеона, в которой тот хвастался, что «не пройдет и шести месяцев, как две северные столицы узрят в своих стенах победителей мира». Наказание отысканному «преступнику», казалось бы, вынесли самое строгое: бессрочные работы в Нерчинске. Но генерал-губернатору и этого показалось мало. Перед падением города он приказал рубить его саблями как «виновника гибели Москвы».
Конечно же оставляемая на погибель Москва несчастной своей участью была обязана не Верещагину. Сдача древней столицы была предрешена общим ходом кампании, и в особенности падением Смоленска, после
которого вопрос о судьбе Москвы стал едва ли не главным. Он начинает занимать Кутузова еще до прибытия к войскам. «Не решено еще, что важнее, — пишет он Ростопчину, — потерять ли армию или потерять Москву? По-моему мнению, с потерею Москвы соединена потеря России». Письмо это датировано 17 (29) августа. Французы вошли в Москву 2 (14) сентября. Две недели, в течение которых ничего нельзя было изменить. Ясно было только, что нельзя не дать французам сражение и что оно будет тяжелейшим. Очевидно, что в этих условиях действия Кутузова должны были свестись лишь к выбору места баталии и поднятию духа солдат…
В Бородинском сражении выяснилось, что по духу, стойкости, героизму русским солдатам нет равных. Не было никаких средств удерживать позиции, а они удерживали. Не было сил подняться в атаку, а они поднимались и с ожесточением опрокидывали ряды наступающего врага. Стояли насмерть, умирали и готовы были умереть здесь же на другой день. Вечером и Кутузов намеревался продолжить бой, но один за другим являлись к нему командиры, и то, что они ему докладывали, было страшно. Потери в командном составе были невосполнимы, общие потери огромны. Половина армии! «Невозможно думать идти вперед, еще менее защищать с 45 тысячами те места, которые были заняты 96 тысячами», — докладывают Кутузову, и он приказывает отступать.
Адъютант Кутузова утверждает, что фельдмаршал и «не полагал дать сражение на другой день, а говорил это из одной лишь политики». Не думаем. И в тот день, и во все другие дни отступления к Москве Кутузов продолжал держаться мысли о необходимости нового сражения, обещая «скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов». 1 (13) сентября Кутузов приказывает строить на Поклонной горе обширный редут и выбирает место для батарей. «Хороша ли позиция?» — спрашивает он у отличившегося при Бородине генерала Ермолова. «На ней невозможно удержаться», — отвечает тот. «Здоров ли ты?» — удивляется ответу Кутузов и берет руку Ермолова, чтобы пощупать пульс: нет ли у человека горячки… «Драться вы здесь не будете», — и в самом деле горячится Ермолов, уверенный, впрочем, что никакой нужды в его мнении Кутузов и не имеет, что единственное его желание показать лишь «намерение защищать Москву, совершенно о том не помышляя».
Вот и Лев Толстой пишет, что «сила вещей» требовала того, чтобы наши войска ушли за Москву. Но что же значат тогда все эти обещания Кутузова не отдавать Москву без сражения? Что значит это щупанье пульса у человека, который не верит его обещаниям? И из чего тогда они делались? Если и впрямь из одной политики, то кого тогда и зачем Кутузов старался держать в неведении? Александра, считавшего отступление от Бородина «решением гибельным»? Собственное окружение? Наполеона? Ростопчина? Но тут уж совсем тайна! В ведении генерал-губернатора был арсенал, склады, раненые, наконец, огромным числом! Уж кому-кому, а Ростопчину следовало знать, «помышляет» Кутузов защищать Москву или не «помышляет». Но и он, если судить по афишкам и по тому, сколько всего осталось в Москве врагу, полагал, что сражение будет. «Светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет», — извещал Ростопчин москвичей, призывая их быть готовыми помогать войску. «Я завтра рано еду к светлейшему, чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев, — писал он в последней афишке (31 августа), — приеду назад к обеду…»
К обеду следующего дня еще ничего не было известно. Ростопчин, приехав к Кутузову, долго с ним объяснялся, но, по всей видимости, так ничего и не узнал. Увидев начальника штаба Ермолова, решил переговорить и с ним. Для человека, призывавшего вот только что «истреблять злодеев», разговор этот выглядел странным. «Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель не приобретет ничего полезного» — так будто бы сказал Ростопчин Ермолову. «Если без боя оставите Москву, — заключил он, — то вслед за собою увидите ее пылающей».
Ермолов пишет, что Кутузов, по его же признанию, не знал до разговора с Ростопчиным, что неприятель «не сыщет в Москве никаких выгод» и что, узнав об этом, он не видел уже причин удерживать Москву «с чувствительными потерями». Ему было важно только, чтобы не ему была бы «присвоена о том первая мысль». Уж 200 лет горячатся, спорят… А тут, глядите, как все у Ермолова просто: приехал Ростопчин и предложил то, что Кутузову пришлось «по сердцу»… С «не первой мыслью» — тут уж совсем перебор. В этом убеждают нас состоявшийся в Филях военный совет, на котором всю ответственность за оставление Москвы фельдмаршал прямо взял на себя, и ближайшая ночь, которая прошла у Кутузова без сна.
Протокола на военном совете (его потом очень хотели видеть в Петербурге) не велось. Известно, что Беннигсен высказался за битву, Барклай, бывший в ту пору еще и военным министром, — за отступление. Дохтуров, Уваров, Коновницын поддержали Беннигсена. Рассказывают, что Остерман спросил Беннигсена, ручается ли тот за успех битвы? Беннигсен отмахнулся, сказав, что, «не будучи сумасшедшим, нельзя ответить тут утвердительно»… В какой-то момент вступил в разговор и Кутузов. «Вы боитесь отступления, — сказал он, — а я смотрю на это как на провидение. Наполеон — как бурный поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет»… Заканчивая совещание, Кутузов объявил, что властью, данной ему государем и отечеством, приказывает отступать.
После совещания он выглядел подавленным. Ни с кем не разговаривал, а ночью слышали несколько раз, что он плачет. Историк Тарле пишет, что никто не связал этого его потрясенного состояния с какой-то личной боязнью перед государем или личным стыдом. Боль за Москву и Россию — вот что так мучило его в эту ночь. О том же мучившем Кутузова страшном вопросе читаем и у Толстого. «Этого, этого я не ждал, этого я не думал», — повторяет у него раз за разом Кутузов. «Вам надо отдохнуть», — обращается к нему адъютант. «Да нет же, — не обращает на него внимания Кутузов, ударяя кулаком по столу, — будут же и они лошадиное мясо жрать, как турки»… Тяжелейшая ночь!
В войсках решение военного совета многие посчитали изменническим. Люди плакали, срывали с себя мундиры, отказывались трогаться с места. Милорадович, командовавший арьергардом, тот вообще был взбешен. В бумаге, сообщавшей об оставлении Москвы, ему предписывалось «почтить древнюю столицу видом сражения». Воевать для виду Милорадович решительно отказался, но выиграть время он смог. Угроза, что в противном случае у каждого дома их будет ждать жесточайшее сопротивление, на французов подействовала. Они приостановили свое движение, и не только русская армия вышла, но и тысячи жителей успели покинуть город.
Оставив Москву, русская армия начала отход по Рязанской дороге, но затем вдруг повернула на запад. Арьергард из казаков меж тем продолжил путь на Рязань, увлекая за собой французов. В результате Наполеон на целую неделю потерял русскую армию. Только 12 (24) сентября обнаружили ее в районе Подольска. Отсюда она совершила новый скрытный отход к реке Нара, где остановилась лагерем у Тарутина. Тарутинский маневр, явившийся для Наполеона полной неожиданностью, признают теперь образцом полководческого искусства Кутузова. Русская армия не только вышла из-под удара, но и заняла выгоднейшее положение. Прикрывая тульский завод и богатые продовольствием южные районы, каждодневно укрепляясь, она могла спокойно дожидаться выхода Наполеона из Москвы, который никуда теперь и не мог двинуться, кроме как на разоренную Смоленскую дорогу для отступления или на Калужскую — для сближения с русской армией. «Война требует того, чтобы армии видели друг друга и соприкасались», — писал тогда же в одном из писем Кутузов, прибавляя, что «Наполеон долго в Москве не пробудет».
Имея под боком армию, готовую в любой момент перерезать единственную коммуникацию и стать ему в тыл, а еще и в преддверии зимы, Наполеон не мог остаться в Москве, где его армия ежечасно разлагалась от вынужденного бездействия, грабежей и выпитого вина, которого почему-то оказалось в Москве очень много. Двинуть свои войска ни на север, ни на восток, ни даже на Петербург, как предполагал, Наполеон тоже не мог. Это было бы чистым безумием. Из ловушки, в которую он попал, дверка открывалась только в одну в сторону. Тут его и дожидалась русская армия.
Был еще один выход, на который Наполеон сильно рассчитывал — заключение мира. Везде в Европе с падением столиц государи склоняли перед ним головы, и он мог диктовать им свою волю. Здесь же в какую-то не ту страну он вошел. В прежних битвах ему хватало вдесятеро меньших усилий, чтобы сломить сопротивление оборонявшихся, а у Бородина он будто на стену натолкнулся. В прежних столицах шли к нему важные депутации с городскими ключами, а здесь, сколько ни ждал он «московских бояр», желая сказать им речь для истории, никто к нему так и не вышел, кроме приведенного сброда из самых ничтожных личностей.
Войдя в Москву, Наполеон думал, что уж теперь-то сопротивление русских сломлено, что подписание мира — вопрос буквально нескольких дней. В эти несколько дней успела сгореть чуть ли не вся Москва, но и после того он все еще ждет обращений от побежденных, понимая, правда, что теперь заключить мир будет труднее. С русским царем следовало каким-то образом объясниться, и Наполеон ищет способы передать Александру, что «воины его умеют сражаться, но не жгут» и что он, несмотря ни на что, «почитает русского государя по-прежнему». С первой такой вестью отправился в Петербург подчиненный начальника Воспитательного дома. И двух дней не прошло, а к русскому царю отправляется и второй посланник — Иван Яковлев, отец Герцена. Тот всего лишь хотел получить пропуск для выезда из Москвы, но Наполеон вдруг заговорил с ним о своей неодолимой любви к миру и о том, что его война в Англии, а не в России. Просто так выдать пропуск Яковлеву он отказывается, но спрашивает, не возьмется ли тот доставить письмо Александру.
В письме Наполеон сообщает, что «прекрасный город Москва уже не существует», что «Ростопчин сжег его», что если имели этим в виду лишить его ресурсов, то цель не была достигнута: ресурсы эти были «в погребах, которых огонь не достиг». В добропорядочных столицах с ним так не поступали, жалуется далее Наполеон, отказываясь в то же время подозревать самого Александра в поощрении поджогов. Он уверен, что принципы и сердце Александра «не согласуются с такими эксцессами», поэтому и ведет войну против него «без всякого враждебного чувства». Ему даже было бы «достаточно одной лишь записки», чтобы остановить ее…
В письме этом, пишет Тарле, нет прямого предложения мира, но на деле оно и есть предложение о мире. Мы бы сказали еще определеннее: Наполеон не предлагает, он молит Александра о мире.
Была еще и третья попытка. 3 (15) октября, после споров с маршалами о походе на Петербург, Наполеон решает послать к Александру одного из своих генералов. Выбор падает на Лористона, который должен был вначале отправиться к Кутузову, чтобы получить пропуск. «Мне нужен мир, — наставляет его Наполеон, — он мне нужен во что бы то ни стало, спасите только честь».
Беседа Лористона с Кутузовым продолжалась около часа. Выслушав жалобы Лористона «на варварские поступки крестьян с французами», Кутузов отвечал, что те лишь отплачивают французам той монетой, «какой должно платить орде Чингисхана». «Однако есть же разница», — возразил Лористон. «Русский народ никакой разницы здесь не усматривает», — не согласился Кутузов. Обсуждать вопросы о мире он вообще отказался, сказав, что у него нет на это никаких полномочий. «Вы не должны думать, что дела наши в отчаянном положении», — продолжил Лористон, и здесь Кутузов много имел всего, чтобы возразить Лористону, но тот и сам уже вполне осознал бесплодность порученной ему миссии: русский командующий, даже если бы и захотел в чем-то уступить, ему никто бы этого не позволил. Вильсон, английский наблюдатель при русском войске, зорко следил за всеми действиями Кутузова, склонного, по его мнению, «из-за своей дряхлости к желанию мира». О всяких своих подозрениях он тут же сообщал и в Лондон, и в Петербург. Вильсон не скрывал своего недоверия и к самому Александру, но тут он был совсем уж не прав.
Александр еще в 1811 г. предупреждал Наполеона, что если начнется война, то кому-то из них придется потерять корону. С переходом французской армии через Неман ни о каком мире с Наполеоном у Александра уже и речи не шло. «Если уж моя династия должна перестать царствовать, я отращу себе бороду и буду есть картофель в Сибири, скорее чем подпишу стыд моего отечества», — говорил он даже и после оставления Москвы. «Гордый завоеватель надеялся сделаться повелителем всего Российского Царства и предписать ему такой мир, какой заблагорассудит, — писал царь в Манифесте о вступлении неприятеля в Москву, — но… не в ту страну вошел он. Россия не привыкла покорствовать, не потерпит порабощения, не предаст законов своих, веры, свободы, имущества. Она с последнею в груди каплею крови станет защищать их».
С провалом миссии Лористона последние иллюзии заключить мир у Наполеона исчезли. Тянуть больше было нельзя. 6 (18) октября он провел смотр, наметив выход из Москвы на 8-е число. Дальнейшие его занятия прервал приезд адъютанта Мюрата. «Что нового?» — спросил у него император. «Войска Мюрата разбиты, государь!» — отвечал ему посланный. «Идем на Калугу, и горе тем, кто попадется нам на пути!» — воскликнул будто бы тут Наполеон, не совсем, видимо, еще понимая, что пришел черед хлебнуть лиха и его собственной, непобедимой некогда армии.
Да и что это была теперь за армия? «Можно было подумать, — вспоминал один из наполеоновских генералов, — что видишь перед собой какой-то караван, бродячее племя или, скорее, древнюю армию, возвращавшуюся после большого набега с пленниками и добычей». «Мои солдаты не умеют жечь», — хвалился Наполеон Александру. Жечь, может, они и правда не сильно умели, но грабить и воровать наловчились отменно. Чтобы не возникало драк из-за добычи, даже поделили город на кварталы и установили очередь, кому, когда и какой квартал грабить. По первости охотились за золотом, серебром, драгоценными камнями, мехами. Затем дошла очередь и до обыкновенных вещей — кружев, отрезов, шляп, салопов, шалей, платьев… которые тоже все подбирались и грузились в коляски или напяливались поверх мундиров для утепления.
Готовясь к выходу из Москвы, не удержался от соблазна и сам император. Мало ему показалось собранного по всей Москве золота и серебра. Велел еще содрать серебряные полосы, которыми были отделаны стены церквей, снять понравившуюся ему люстру из литого серебра и выломать крест с колокольни Ивана Великого… Сам Кремль приказано было взорвать. Все остальное — предать огню. Пустыню — вот что намеревался оставить после себя завоеватель, ведший войну, по его же признанию, без враждебного чувства. И этому ли человеку было учить русских людей тому, как следует воевать? Русский солдат в Париже даже и намека себе не позволил сделать на то, что было устроено воинами «великой» армии в Москве. Чтобы отвратить солдат от насилия и в самой незначительной форме, Александр велел даже выплатить им жалованье золотом вперед за несколько лет…