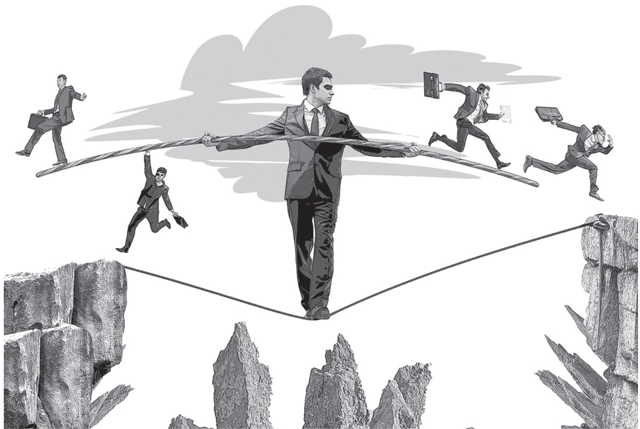
С апреля 2025 г. высокочастотные данные демонстрируют первые признаки улучшения в российской экономике после продолжительного периода турбулентности. Однако это оживление носит точечный характер и опирается преимущественно на сырьевой сектор и временное укрепление рубля. На фоне стагнации в гражданской промышленности, снижения инвестиционной активности и сохраняющихся инфляционных рисков аналитики ЦМАКП рисуют картину хрупкого равновесия, где позитивные сигналы соседствуют с тревожными тенденциями, а вероятность рецессии, хоть и низкая, постепенно усиливается под давлением внешних и внутренних факторов.
Российская экономика вступила в середину 2025 г. в состоянии противоречивой динамики. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованным в июньском материале «Анализ макроэкономических тенденций», апрельские показатели выявили временные признаки улучшения, но исключительно локального характера. Со стороны производства оживление коснулось лишь нефтедобычи и нефтепереработки («нефтянки») и розничной торговли, со стороны спроса наблюдалось некоторое повышение потребительской активности. Этот осторожный оптимизм, однако, не отменяет общей картины стагнации, особенно в обрабатывающих отраслях, не связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) или нефтепереработкой.
Промышленность: рост на нефтяной игле, спад в гражданском секторе
Промышленность в целом демонстрирует отсутствие явного роста. После снижения объемов производства в марте на 0,7% апрель принес увеличение на 0,9% (к предыдущему месяцу, с устраненной сезонностью). Однако этот «стагнационный позитив» был обеспечен почти исключительно за счет наращивания добычи и переработки нефти. Гражданские неэнергетические отрасли обрабатывающей промышленности продолжают устойчивое снижение выпуска: в среднем на 0,7% в месяц за январь — апрель, включая 0,4% в апреле. Предыдущие месяцы поддерживались секторами с доминирующим присутствием ОПК, что маскировало общий спад.
Инвестиции: иллюзорный рост
Инвестиционная сфера также подает противоречивые сигналы. Формально инвестиции в основной капитал в I квартале 2025 г. продолжали быстро расти (+4,5% к предыдущему кварталу, сезонность устранена). Однако эксперты ЦМАКП связывают эти цифры скорее с инвестициями в нематериальные активы, так как они плохо согласуются с данными о строительных работах и производстве инвестиционных товаров. Строительный сектор переживает «болтанку»: январь (+0,1%), февраль (+2,9%), март (–3,5%), апрель (+2,2%). Интенсивность инвестиционной активности резко снизилась в первые два месяца года (–3,4% к декабрю), частично восстановившись в марте — апреле. Эта неустойчивость связана преимущественно с колебаниями предложения машин и оборудования.
Внешняя торговля остается под давлением. Экспорт товаров (в текущих ценах, сезонность устранена) в апреле продолжил постепенное снижение, вероятно, из-за влияния мировых цен на нефть. Укрепление рубля в 1-м полугодии и сохраняющийся риск углубления мирового экономического кризиса создают риски для дальнейшего сжатия российского экспорта. Импорт товаров в апреле несколько увеличился, вернувшись на тренд медленного роста, подталкиваемого укреплением рубля. Однако во 2-м полугодии этот рост может замедлиться из-за проблем со сбытом внутри страны.
Знаковым событием мая стало активное возобновление укрепления рубля. Курс бивалютной корзины (доллар США, евро) к рублю снизился за месяц на 5,3%, составив 82,2 руб. за корзину на 1 июня 2025 г. Это укрепление обусловлено превышением предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем рынке. Этому способствовали замедление импортного спроса из-за высокой ключевой ставки и сохранение ограничений на отток капитала. Новый пакет антироссийских санкций ЕС, введенный в конце мая, существенного влияния на курс не оказал.
Денежно-кредитная сфера: сложные потоки ликвидности
Денежно-кредитная сфера характеризуется сложными процессами. В мае сохранялись высокие поступления ликвидности в экономику через канал чистых расходов бюджета. Стерилизация этого притока обеспечивалась операциями Минфина на рынке финансовых активов. Одновременно Банк России расширял операции по рефинансированию банков. В результате совокупный баланс факторов денежной эмиссии (без учета наличных) сместился дальше в отрицательную зону (до 1—2 трлн руб.), способствуя снижению денежной базы. Накопленный с начала года рост рублевых средств на расчетных счетах предприятий был полностью нивелирован резким снижением в апреле (почти на 1 трлн руб.). Это сигнализирует о возможном ухудшении платежной дисциплины и постепенном сжатии ликвидности хозяйственного оборота. Предприятия стремятся поддерживать минимально необходимый для оборота уровень ликвидности, извлекая выгоду из высоких ставок по депозитам.
Социально-трудовая сфера: риски сжатия доходов
Социально-трудовая сфера вызывает растущую озабоченность. Уровень реальной заработной платы в марте закрепился на резко понизившихся в январе — феврале значениях (январь: –2,5%, февраль: –1,5%, март: +0,1%, сезонность устранена). Теперь речь идет уже не о риске стагнации, а о риске сжатия оплаты труда. Возможности компаний для ускоренного повышения зарплат, судя по всему, исчерпываются. Давление фонда оплаты труда на валовую добавленную стоимость быстро нарастает, особенно заметно ухудшение ситуации в транспорте и сельском хозяйстве. Динамика основных реальных денежных доходов населения повторяет траекторию зарплаты, демонстрируя слабое снижение (январь: 0,0%; февраль: –0,9%; март: –0,2%). При этом скачок реальных располагаемых доходов в I квартале (+3,2%), вероятнее всего, связан с влиянием укрепления рубля на переоценку валютных активов, доходами от финансовых инструментов или выплатами по линии СВО.
Потребительский спрос: слабый разворот тренда
Потребительское поведение населения начало меняться. В I квартале наметился «разворот трендов»: на фоне некоторого снижения банковских ставок по депозитам норма потребления немного повысилась, а норма сбережений — снизилась, достигнув, по-видимому, своего «технического максимума». Динамика потребления населения по состоянию на апрель слегка усилилась, позволяя говорить скорее о стагнации, чем о продолжении сжатия. Это связано с началом действия фактора роста нормы потребления / снижения нормы сбережения, несмотря на сохраняющиеся высокие ставки. Однако в структуре потребительских расходов больше не выделяются «зоны роста». По ряду позиций, особенно по «кредитным» товарам длительного пользования, наблюдается выраженный спад.
Инфляция: замедление с оговорками
Инфляция продолжает снижаться, но остается чувствительной для уязвимых групп. В июне процесс замедления инфляции продолжился. По оперативным данным на 9 июня, месячный уровень инфляции оценивается в 0,15% (примерно 9,3—9,5% в годовом выражении к июню 2024 г.). Снижение обеспечивается тремя факторами: удешевлением плодоовощной продукции, сжатием/стагнацией потребительского спроса на ряд непродовольственных товаров (особенно технически сложных и товаров длительного пользования), а также продолжающимся укреплением рубля. Однако сохраняется критически важная проблема: инфляция по корзине потребления малообеспеченного населения остается высокой, существенно превышая общий уровень. Реальный размер пенсий, рассчитанный с учетом роста цен для этой социальной группы, уже почти год остается ниже уровня годичной давности.
Риски рецессии: медленное нарастание
Риски входа в рецессию медленно нарастают. Значение сводного опережающего индикатора (СОИ) входа российской экономики в рецессию в марте продолжило медленный рост, достигнув 0,05 (против 0,03 месяцем ранее). Хотя текущее значение СОИ остается далеко от критического порога (0,18) и вероятность рецессии оценивается как низкая, сила негативных факторов увеличивается. Росту СОИ способствовали: рост ставок отечественного денежного рынка, ухудшение динамики сводного опережающего индикатора ОЭСР по США (связанное с замедлением американской экономики), ухудшение динамики индикатора уверенности отечественного бизнеса и снижение сальдо счета текущих операций платежного баланса. Положительный темп прироста физического объема ВВП за скользящий год пока сдерживает СОИ, но сила этого фактора ослабевает.
Мировая конъюнктура: напряженность сохраняется
Мировая экономическая обстановка остается напряженной. На мировых товарных биржах в июне ситуация характеризовалась как «стабильно напряженная»: соотношение цен «золото/медь» (защитный/инвестиционный актив) продолжает находиться вблизи исторически максимального уровня. На фондовых рынках США сохраняется ситуация «полунормализации»: спреды между долгосрочными и краткосрочными бумагами нормализовались, а между среднесрочными и краткосрочными — остаются «инверсными», предкризисными. Это отражает рыночные ожидания «короткого» кризиса в обозримой перспективе, который, по мнению участников, не должен продлиться более двух-трех кварталов.
Бюджетная политика: смена импульса
Бюджетная политика остается важным фактором поддержки. В 2024 г. бюджетная система стимулировала рост преимущественно через первичные расходы, при этом налоговый канал стимулирования не задействовался из-за высоких и растущих налоговых изъятий. Однако по сравнению с 2022—2023 гг. бюджетный импульс в 2024 г. снизился из-за более сдержанного расширения дефицита. Дестимулирующий эффект от запланированной стабилизации бюджетной системы может стать заметным в 2025 г. Доходы бюджетной системы за январь — март 2025 г. выросли на 7,6% к прошлому году, но исключительно за счет ненефтегазовых поступлений. Нефтегазовые доходы упали на 9,8% из-за более низких цен на энергоносители. Рост ненефтегазовых доходов обеспечили налоги на доходы и прибыль (включая эффект новых налоговых правил), НДС, акцизы, страховые взносы и неналоговые доходы.
