Денежно-кредитная политика России: почему регулятор начал опаздывать за ритмом экономики
Денежно-кредитная политика Банка России, сконцентрировавшаяся исключительно на процентной ставке, привела к рассинхронизации с экономическими процессами. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Результатом стали беспрецедентные колебания ключевой ставки, которые не сглаживали, а усугубляли циклы экономики: переохлаждали ее в периоды спада и разогревали в моменты подъема. Запоздалая и мощная реакция рынка на ужесточение политики вылилась в «кредитное сжатие» конца 2024—2025 гг., несущее риски резкого торможения экономического роста.
Опубликовано:«Экономика и жизнь» №32 (10096) 2025
Материал для подписчиков издания «Экономика и жизнь». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
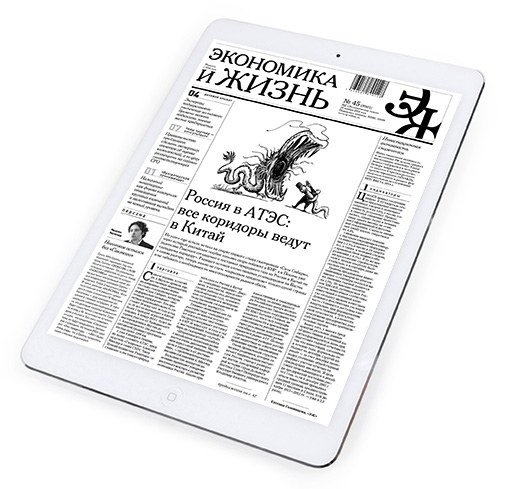
Экономика и Жизнь
Универсальное деловое издание для ведения бизнеса, издается с 1918 года. Газета включает в себя основной выпуск и постоянные тематические приложения: «ЭЖ-Бухгалтер» и «ЭЖ-Юрист».
