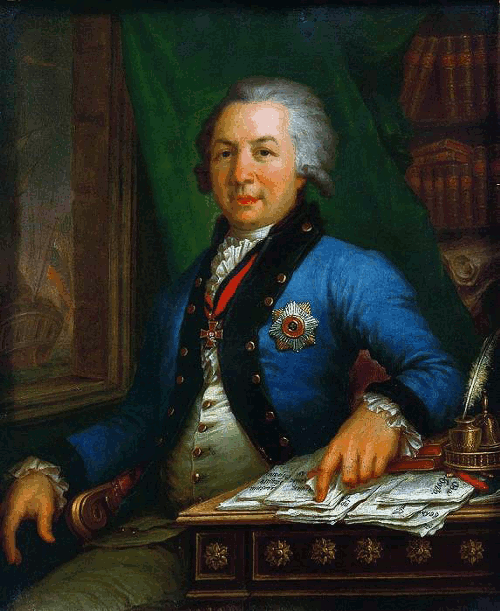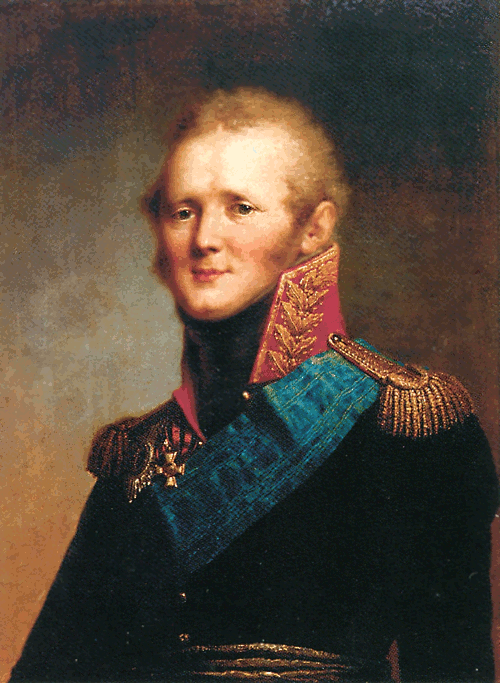В конце 1773 г. отряды пугачевцев подошли к Кунгуру, административному центру Пермского края. Удержаться, по всем расчетам, не было никакой возможности, и кунгурский воевода Н. Миллер с прокурором и прочим начальством ночью тайком покинули город. Горожане же решили сдаться бунтовщикам. Бургомистру Ф. Кротову и купцу Е. Хлебникову едва удалось уговорить их защищать город, укрепив его дополнительными заслонами. Нападавших было семь тысяч. И все они были воодушевлены военными успехами и манифестами «Петра III», за которого выдавал себя Пугачев. «Когда исполните мое повеление, — говорилось в них, — тогда пожалованы будете крестом и бородою, рекою и землей, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью»...
Штурмовали Кунгур несколько раз. Первые приступы 4 и 5 января были плохо организованы, и их удалось отбить. 9 января пугачевцы атаковали по трем направлениям сразу, но и в этот день Кунгур устоял. 23 января, с началом нового штурма, его защитники, не надеясь уже на собственные силы, подняли икону Тихвинской Божией Матери и вышли крестным ходом на городские укрепления. Тут и случилось чудо! Увидав вдруг на валу множество народа и не сообразив, видимо, в чем тут дело, пугачевцы бежали…
Подвиг кунгурцев не остался незамеченным. Решено было простить городу недоимки. Кротов и Хлебников были пожалованы шпагами, восемь купцов, убитых в сражениях, повелено было «зачесть в рекруты» (чтобы их семьи получили право на пособие), а отличившегося в боях майора Попова произвели в подполковники. С Миллером власти разбирались до мая 1775 г. Он вернулся в Кунгур и даже привел с собой какое-то подкрепление, но отлучку его из города признали «сделанной единственно из трусости». На смену ему еще весной 1774 г. был прислан из Петербурга Александр Федорович Голубцов, которому предписано было принять меры к укреплению «городского селения», ибо возможность нового нападения все еще не была устранена.
Оно и действительно случилось. 11 июня 1774 г. у Александровских сопок разразилось сражение. В нем войско во главе с Голубцовым заставило взявшего Красноуфимск Пугачева свернуть с дороги на Кунгур и двинуться на запад, к Казани. По легенде о золоте Пугачева, сражение 11 июня он проиграл и вынужден был отступить, даже казну пришлось ему бросить, закопав где-то. Этим-де только и можно объяснить обнаружившееся вскоре у Голубцова желание приобрести окрестные земли в свое владение. Не хлеб, мол, хотел он на них выращивать для выгонки вина (Александр Федорович стал вскоре поставлять вино в пермские города), а выждать удобный момент, чтобы изъять клад. «Ну и изъял», — убеждают нас сторонники этой версии, ссылаясь на то, что именно с этого времени Голубцов начал «резко повышаться по карьерной лестнице» и «стремительно богатеть», так что даже смог построить в своем селе Александровское церковь. И построил он ее будто бы не просто так, а как бы «в благодарность за полученное богатство».
В «начал стремительно богатеть» — здесь, кажется, только догадки. Не было у Голубцова и «резкого» карьерного возвышения. После учреждения Пермского наместничества (в январе 1781 г.) он проработал недолгое время председателем верхнего земского суда, пока не перевели его в 1783 г. в Симбирск — «поручиком» (заместителем) правителя, иначе говоря, — вице-губернатором. К концу жизни дослужился Александр Федорович до действительного статского советника. Чина, согласимся, высокого, но только IV класса. Для сравнения — сын его, Федор Александрович, о котором и пойдет у нас речь чуть далее, закончил службу действительным тайным советником, то есть в шаге от высшей ступени.
Рассказывая о «резком возвышении» Голубцова, нельзя не упомянуть и о его масонской карьере. В открытой в 1784 г. И. Тургеневым симбирской ложе «Златой венец» Голубцов был «управляющим мастером», председательствующим на собраниях ложи. Проходили они в специально построенном храме. Среди «братьев» ложи был весь цвет Симбирска: 39 действительных членов и более 20 почетных. Из рядовых членов (учеников) упоминают о Николае Карамзине. Сам он говорит, что в ложу «вовлечен был обстоятельствами». Должность одного из надзирателей, следившего за порядком на собраниях, занимал И. Колюбакин, тесно связанный с просветителем Н. Новиковым. С Новиковым же Тургенев свел и Карамзина, который вступил в Москве и в новиковскую ложу «Дружеское ученое общество», заявленной целью которой было «распространение истинного просвещения». Разумеется, не свободен был от влияния Новикова и Голубцов. Определяют его даже «сотоварищем Новикова»…
Екатерина до поры не трогала всерьез любителей «истинного просвещения», но с началом французской революции (1789 г.) тучи над ними начали сгущаться. Появились вдруг слухи о переписке Новикова с якобинцами. Обратили внимание и на то, что в Москве, какие только печатались книги во Франции, тоже все их можно было купить. Открылась со временем и секретная связь московских розенкрейцеров с главой берлинских масонов Вельнером и их подчиненное положение не российской императрице, а великому мастеру всего масонства герцогу Брауншвейгскому. К злодейским замыслам якобинцев отнесли и неожиданную смерть (в 45 лет!) австрийского императора Леопольда II, и случившееся в этом же году (1792) убийство шведского короля Густава III. По всей Европе распространилась тогда молва, что французы разослали своих людей «для покушения на жизни государей». Из Берлина было получено и прямое сообщение о том, что в Россию выехал француз Бассевиль «с злым умыслом на здоровье ее величества». Неудивительно, что даже и в народе стали теперь говорить, что «якобинцы и франкмасоны, соединясь, умыслили отравить государыню ядом».
Далее никак уже нельзя было медлить, и Екатерина отдала приказ об аресте Новикова. Произведенное следствие показало, что в своей деятельности он и его «противонелепое общество» далеко вышли за пределы дозволенного и что «преступления», ими совершенные, столь важны, что заслуживают «нещадной казни». «Нещадной казни» почему-то не вышло. Одного Новикова повелели «запереть на пятнадцать лет в крепость» (его выпустит потом на свободу Павел), прочие же «братья» отделались легким испугом. Кого-то (того же Тургенева) выслали в их же деревни; кого-то оставили нетронутыми в Москве; кто-то и вовсе оказался в стороне… На допросах Тургенев признал, что им была учреждена ложа в Симбирске «под надзиранием Голубцова», но представил ее деятельность как совершенно несущественную: «Собирались-то, мол, всего несколько раз… И списков никаких нет, если бы я их имел, то уж конечно бы представил…»
На «нет», как известно, и суда нет. В Симбирске, полагаем, не было даже и разбирательства. Известно только, что Голубцов, которому в 1792 г. исполнилось 57 лет, вдруг удалился в деревню. Умер он в октябре 1796 г. и был погребен в Перми. Связано ли было с Александром Федоровичем назначение его сына Ивана в том же 1796 г. вице-губернатором Пермского наместничества — не можем об этом судить. Иван был младшим сыном у Голубцова. Старшим был Федор. Был у них еще и брат Дмитрий. Всем им быть бы в воинской службе. По семейному преданию, род Голубцовых пошел от одного из воинов, служивших у Дмитрия Донского. Наткнувшись на плывшие по реке «голубцы» — намогильные кресты с кровельками, он, схватив один из них, бросился с горсткой воинов догонять вражеский отряд, осквернивший кладбище. За этот подвиг и получил будто бы витязь прозвание «Голубец».
Все трое сыновей Александра Федоровича и приготавливались, кажется, к военному поприщу — учились в престижнейшем заведении — Шляхетном кадетском корпусе, считавшемся настоящей «рыцарской академией». Надо признать, что и масоны чувствовали себя здесь довольно вольготно — таково уж в то время было поветрие. Выпущенный в 1776 г. в офицеры, Федор оставался им только до 1882 г., когда был «переименован в гражданский чин» и переведен в канцелярию генерал-прокурора А. Вяземского. Здесь он был взят под опеку родным дядей — А.И. Васильевым (на старшей сестре Васильева Анне был женат Александр Федорович), будущим министром финансов. Васильев, в свою очередь, был женат на родственнице Вяземского — кумовство на кумовстве, как бы мы определили это теперь.
Кто повлиял на решение Федора оставить военную службу — дядя или отец с матерью, не знаем. Может, все дело было в здоровье. Один из современников оставил нам описание Федора Александровича (правда, в уже более поздних годах) как «хилого, желтенького, опрятненького» человека, встречающего посетителей «добродушной улыбкой» и обходящегося с ними «так ласково, как никто из должностных лиц в Петербурге». Согласимся, что для военного человека характеристика не совсем подходящая.
Неизвестно, был ли ласков брат Федора Иван, тоже не захотевший остаться военным и оказавшийся вдруг прокурором. Прокурорам же, по житейским понятиям, быть ласковым совсем нельзя. В 1796 г. Иван, как мы уже знаем, был переведен в Пермь, а в 1798 г. он тоже оказывается под боком у Васильева, становится управляющим одной из Экспедиций. Иван, к сожалению, рано умер, в 1802 г., оставив вдовой молодую жену, Марию Огареву, тетку поэта Н. Огарева. Из трех братьев один только Дмитрий не оставил военной службы. О нем известно, что чином он дослужился до генерал-майора и что был в 1804—1812 гг. членом Военной коллегии…
Опека Васильева много значила для Федора Голубцова. Рос в должностях Васильев, рос с обязательностью и его племянник. В 1785—1790 гг. он — секретарь генерал-прокурорских дел, в 1790 г. его назначают советником Экспедиций, учрежденных для казенного управления. В 1796 г. он становится управляющим одной из этих Экспедиций — по начетам и недоимкам. В 1797 г., при императоре Павле, когда Васильев стал государственным казначеем, Голубцова сделали старшим членом в Экспедиции о государственных расходах. С назначением Васильева в 1802 г. министром финансов Голубцов занимает при нем место государственного казначея. Так и шли друг за другом. Даже внезапная смерть Васильева (в августе 1807 г.) не смогла оборвать эту связь. По уже сложившемуся у многих тогда мнению, преемником Васильева непременно должен был стать Голубцов. Так оно и случилось.
В очерке о Васильеве не сказали мы, отчего он умер. Хорошо знавший Голубцова дипломат П. Дивов записал разговор с Федором Александровичем. Он приехал тогда к Голубцову, чтобы посоветовать ему убедить императора не подписывать ассигновок, не посоветовавшись с ним как с человеком, отвечающим за финансы. Вопрос, как оказалось, был для Голубцова больным. Он стал жаловаться, что управление финансами стоит не на должной высоте, что министр внутренних дел Куракин вносит во все дела смуту, что он же исходатайствовал графу Ильинскому и какому-то купцу около миллиона рублей беспроцентной ссуды и что графа Васильева оттого и хватил удар, что он вынужден был отпустить для армии пять миллионов, не имея на то санкции императора…
О том, что управление финансами стоит не на должной высоте, несколькими годами ранее Голубцов жаловался и Г. Державину, назначенному при учреждении министерств министром юстиции. Заняв место государственного казначея и ознакомившись с делами, Голубцов пришел к выводу, что «доходам нет никакого счету», что «казна в крайнем расстройстве» и что не может же он в такой ситуации отвечать за ее истощение, а «паче за ассигнации сумм, на которые финанс-министр объявляет именные указы». Державин захотел было устраниться от продолжения разговора, сведшегося, по существу, к жалобе на дядю от его же племянника, но Голубцов стал уверять его, что он с этим и приехал к нему как к министру юстиции...
Узнав от Державина о сути жалоб Голубцова, Александр обещал переговорить с Васильевым. Разговор этот состоялся, но Васильев успел к нему приготовиться, и из его объяснений выходило, что это не Голубцов приезжал к Державину, а Державин призывал его к себе и вынуждал жаловаться на дядю из той будто бы злобы, что Васильев сменил Державина на посту казначея и занял потом должность министра финансов, предлагавшуюся вначале Гавриилу Романовичу. «Вижу, вижу, что плутни, — успокаивал потом государь Державина, — ну да вот что, посажу-ка теперь Голубцова в Комитет министров. Пусть он там уличает Васильева и препятствует ему распоряжаться деньгами во вред казне». Державин пишет далее, что ничего из этой затеи не вышло, что в Комитете Голубцов никогда дяде не возражал, так что можно было подумать: не с намерением ли они сыграли с ним такую хитрую штуку, чтобы бросить тень на Державина и чтобы могли они друг друга подкреплять в Комитете министров.
Кто в этой истории был более прав — Державин или Васильев с Голубцовым — Бог весть. С одним лишь следует согласиться: казна при Васильеве была в крайнем расстройстве. Из-за войны (тогда воевали с Францией), главным образом, но и потому еще, что и в самом деле «доходам не было никакого счету», что и «ассигнование сумм» не всегда осуществлялось на законных основаниях. Но тут и вопрос: если Васильеву не хватило сил со всем этим справиться даже «хитрыми штуками», то как мог надеяться выправить столь уже запущенное дело «ласковый» и «добродушный» Голубцов, человек, по признанию многих, «далеко не таких способностей, как его дядя»?
После смерти Васильева Министерство финансов переходило в подчинение Голубцову не сразу, а как-то частями, и передача эта считалась временной, до назначения нового министра. Государь, видимо, был в великом сомнении, справится ли Голубцов со свалившейся на него тяжестью, да еще и в условиях присоединения России к континентальной блокаде Англии. В марте 1808 г. произошел еще и разрыв со Швецией, приведший к еще одной войне… Где тут было вытянуть все это Голубцову, но он целых два года держался за место. Даже когда появились слухи о желании его уйти в отставку, он посчитал нужным их опровергнуть, сославшись на то, что «было бы бесчестно для него оставлять императора одного», как будто с ним Александр чувствовал себя много увереннее…
По положению своему при дворе Голубцов был несравненно более зависим, чем его дядя. Он и вообще бы не смог удержаться наверху без чьей-то поддержки. Ее оказывал ему А. Аракчеев, военный министр, заново формировавший армию после ее неудач в 1805 и 1807 гг. Потому, видимо, Голубцов и был к нему особенно «добродушен». Требования Алексея Андреевича выполнялись им безотказно и без урезания. То, что требования эти были чрезмерными, стало ясно уже в 1810 г., когда обнаружилось, что Военное министерство, имея в запасах хлеба на 13,6 млн руб. и всяких вещей на 4,6 млн руб., располагает еще и остатком от выделявшихся ему сумм… в 24 млн руб.!
Понятно, что у армии должны были быть запасы, но и все равно видно, что Аракчеев не испытывал в деньгах никакой нужды, и это при том, что казна намеренно приостановила расчеты с поставщиками. Такие долги даже не включались в сметы по той причине, что никто не знал толком, сколько, кому и за что следует платить. Получается, что не только доходам, но и расходам тогда «не ведали счету». Но раз в сметах не было предусмотрено подобных выплат, то их специальным указом (от 25 января 1808 г.) и запрещено было производить. Аракчеев не преминул объявить об этом и в «Санкт-Петербургских ведомостях», объяснив необходимость подобной меры тем, что не может же он «вместе продовольствовать войска и платить долги», ибо «из одного рубля надобности на два удовлетворить нельзя».
Указом от 25 января 1808 г. предписывалось «истребовать немедленно» от департаментов сведения о долгах, чтобы потом на основе их составить ведомости и решить, «за счет каких сумм следует те долги удовлетворить». «Немедленно» оказалось возможным предоставить только те сведения, которые не требовали проверки, в целом же выполнение указа сильно затянулось. По разным данным одни и те же долги отличались друг от друга в разы, а количество счетов оказалось таким, что в них можно было утонуть. Первые выплаты начались поэтому только через полтора года, и касались они пока только самих военных из тех полков и команд, что «свои полковые, артельные и собственные офицеров деньги употребили на продовольствие войск». Частные же подрядчики по-прежнему оставались неудовлетворенными.
Понятно, что задержка в выплатах не могла не сказаться на подрядных ценах. В них стали закладывать риски отказа казны от погашения счетов. Не знаем, как для Голубцова с Аракчеевым, но для адмирала Н. Мордвинова, например, ничего удивительного в этом не было. «Ну подумайте только, — восклицал он, — кто может пуститься в правильные обязательства с казною, когда нет никакой достоверности в платежах ее?» Соглашался с мнением адмирала и Д. Мертваго, занимавший при Аракчееве пост генерал-провиантмейстера и потому близко знавший сложившуюся тогда ситуацию. «В один год, — писал он в своих записках, — переплатили денег в излишестве более, нежели бы стоил весь платеж долгов». Кстати, уж скажем здесь и о еще одной причине, заставившей купцов быть более осмотрительными. 8 ноября 1807 г. вышел указ, резко увеличивший размеры объявляемого купечеством капитала: по первой гильдии, например, его подняли с 16 000 до 50 000. В процентах от объявленного капитала собирались гильдейские сборы, и их увеличили таким образом чуть ли не в три раза…
Каких-то других значительных изменений в налоговой сфере при Голубцове не было, кроме того, разве что осуществлены были некоторые организационные преобразования, меры по сокращению недоимок и выявлению уклоняющихся от ревизии для включения их «в оклад». «В оклад» же решено было включить панцирных дворян (из поляков) и евреев, по которым провели даже специальную перепись. Меры все, казалось бы, малозначительные, но поступление в казну подушной подати увеличилось за два года на 8 млн. По соляному сбору нет у нас сведений, почему, но он вдруг вырос в 1808 г. по сравнению с 1807 г. на 7 млн, в то время как питейный сбор за этот же год практически не изменился, а в следующем хотя и вырос, но незначительно — с 34,2 млн до 35,6 млн. Таможенный сбор в 1808 г. из-за присоединения России к континентальной блокаде резко снизился с 9,1 млн руб. до 5,5 млн, но на следующий год возрос вдруг до 8,4 млн. В целом государственные доходы за 1808—1809 гг. выросли почти на 19 млн руб., со 114,8 млн до 133,9 млн.
Из сравнения этих почти 134 млн с расходами в том же 1809 г. — 278-ю млн можно увидеть всю бедственность положения, в котором оказались финансы при Голубцове. Неудивительно, что только за два года его правления новых ассигнаций выпустили на 150 млн руб. (!), то есть объемом чуть ли не в 40% от всего того, что было выпущено в обращение с… 1769 г. Курс, разумеется, был резко этим обвален. За серебряный рубль при Васильеве давали около полутора рублей бумажных, при Голубцове он стал стоить уже около четырех. И несмотря на это, выпуск ассигнаций Федор Александрович считал лучшим выходом из положения, полагая, что другим «для государства легчайшим образом» действовать было бы просто невозможно.
Вот и видим из всего этого, что деньги Голубцов запустил в оборот огромные, а все прочие его меры выглядят как-то мелко сравнительно с масштабом накопившихся проблем. К концу 1809 г. то, что он никак не сумеет справиться с нараставшим год от года дефицитом бюджета, стало уже вполне ясно даже его сторонникам, уважавшим Федора Александровича за ласковость и добродушие. Стало еще понятно, что нужен не только новый министр, но нужна еще и программа выхода из тяжелейшего кризиса. Ее разработку Александр поручил одному из самых деятельнейших своих сотрудников на тот момент — М. Сперанскому. К началу 1810 г. обширнейший (в несколько сот листов) план был готов. Государь сразу же представил его на обсуждение Государственного совета в самый день его открытия (1 января 1810 г.) в качестве важнейшего и безотлагательного документа. Главная идея, которую проводил в нем Сперанский, заключалась в том, что «всякий финансовый план, указывающий способы легкие и не полагающие никакого ограничения в расходах, есть явный обман», что все великие предприятия «совершаются трудом, твердостью и терпением» и что России для того, чтобы вывести ее из несчастного положения, нужны будут «сильные меры и важные пожертвования»…
Мысли все верные, но каждая из них будто и была для того написана, чтобы показать полную непригодность к важнейшей министерской работе Голубцова, совершенно не готового ни к «сильным мерам», ни к «важным пожертвованиям». В отставку он подал без всякого сопротивления и даже не затаил на Сперанского никакого зла.
Исполнение плана Сперанского поручат Д. Гурьеву. То, что и Гурьев окажется неспособным вывести финансы из их «несчастного положения», и что сам план Сперанского потерпит крушение, — это уж, как говорится, совсем другая история.