От шока к шоку: структурные сдвиги в платежном балансе и новая реальность российского рубля
Последнее десятилетие стало для российской экономики периодом непрерывной адаптации к череде мощных внешних шоков. Санкции 2014 г., пандемия 2020 г. и беспрецедентное геополитическое давление с 2022 г. кардинально изменили картину платежного баланса и динамику обменного курса рубля. С одной стороны, экономика частично приспособилась, но с другой — возросшая зависимость от сырья и масштабный отток капитала создают риски для будущей стабильности. При этом курс рубля демонстрирует аномально высокую волатильность, а его текущее «переукрепление» эксперты считают временным явлением.
Опубликовано:«Экономика и жизнь» №33 (10097) 2025
Материал для подписчиков издания «Экономика и жизнь». Для оформления подписки на электронную версию издания перейдите по ссылке.
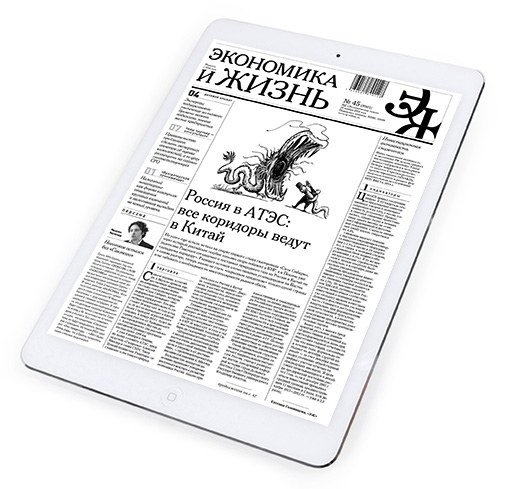
Экономика и Жизнь
Универсальное деловое издание для ведения бизнеса, издается с 1918 года. Газета включает в себя основной выпуск и постоянные тематические приложения: «ЭЖ-Бухгалтер» и «ЭЖ-Юрист».
