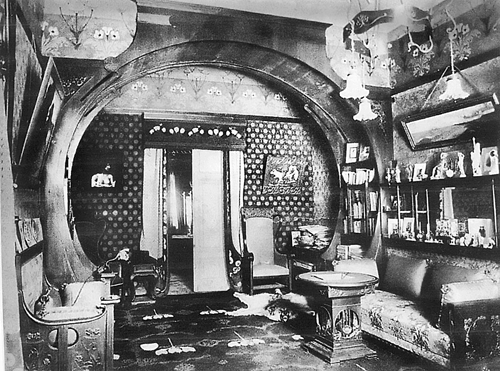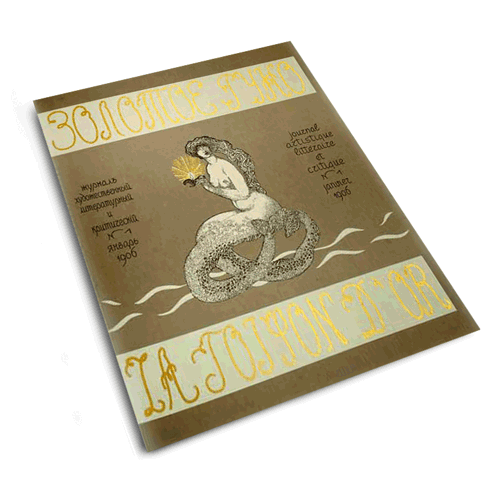Родные называли его «беспутным Николашей». Семейный бизнес навевал на него скуку. К тому же и натура была у него художественная: сорить деньгами ему было много приятнее, нежели их зарабатывать. Делал он это с изяществом, но как-то уж очень споро. В феврале 1900 г. получил из наследованных от отца денег 75 000 и тут же все их спустил. В мае забрал еще 50 000, и от них вскоре не осталось и следа… Надумал зачем-то обзавестись собственным имением, но это бы еще и ладно. На певичку-француженку ушло у него, и только за полтора месяца, 150 000! Пиры, дорогие рестораны с цыганами и ждущими у дверей лихачами, купленная у Фаберже гора драгоценностей…
Смотреть на все это не было сил, и, чтобы умерить пыл разошедшегося братца, старшие в семье Павел и Владимир стали хлопотать об опеке над «расточителем». Были допрошены ювелиры, служащие в ресторанах, призвали к ответу и самого Николашу, которому под давлением многих свидетельств ничего и не осталось, как согласиться: «И в самом деле тратил ужасно много… Расточительствовал, в общем…»
Опеку сняли с него через пять лет, но годы эти он провел не в бездействии. Посетил экзотические Японию, Гонконг, Индию, Яву, Майорку, Новую Гвинею, накупив в пути всяких всячин. Увлекся живописью, поэзией, литературой, написал даже что-то в декадентском стиле. И хотя картины его и книжки, изданные под читаемым псевдонимом «Н. Шинский», не вызвали у публики какого-то особенного интереса, он уже тогда решил окончательно — никаких акций и облигаций, только искусство!
Помимо денег, к которым вновь открылся у него доступ, обнаружился в нем и несомненный талант. Что-то вроде звучащей в душе музыке сфер. Не вполне ясной, порой сумбурной, но гармоничной. Красоту он чуял нутром и был тут «довольно меток». В его коллекции было множество редкостей, привезенных с Востока: драконов, фарфоровых ваз, мечей, даже отравленных стрел папуасов. В собрании картин и скульптур кроме заграничного (с работами и таких мастеров, как Брейгель, Кранах, Пуссен, Роден) был у него и большой русский отдел. Из современников он отдавал предпочтение друзьям-«голуборозовцам»: П. Кузнецову, М. Сарьяну, В. Милиоти, Н. Сапунову, С. Судейкину, Н. Крымову... В 1907-м в доме фарфорового фабриканта Кузнецова на Мясницкой он устроит выставку их работ, вызвавшую настоящий фурор. «Часовней искусств» назовет эту выставку критик С. Маковский. Стены всех залов на ней были задрапированы серебристыми и голубыми тканями, повсюду стояли многочисленные вазы с гиацинтами, нарциссами и лилиями, нежно звучала музыка, и, сменяя известных музыкантов, известные поэты читали свои стихи. Подобной изысканности в Москве еще «никогда не видали».
Виллу в Петровском парке, в которой помещалась коллекция Рябушинского и которая была спроектирована и отделана с помощью близких ему художников, он назвал «Черный лебедь». Мебель для нее была изготовлена по специальному заказу, и на каждом предмете красовалась марка в виде черного лебедя. Тем же знаком было отмечено и все столовое убранство: салфетки, скатерти, серебряная посуда, бокалы и рюмки из венецианского стекла, привезенные из Италии… У входа в сад он воздвиг мраморный саркофаг, украшенный бронзовой фигурой быка, — здесь должны были упокоиться после смерти его бренные останки. Выложенные дорожки обрамляли ряды пальм, клумба у террасы была засажена орхидеями, необыкновенно яркие птицы пели гостям заморские песни, а у причудливого фонтана, распушив хвосты, важно прогуливались павлины. Была у хозяина мысль завести в саду и тигров со львами, к которым он «чувствовал сопричастность», но тут уж стерпевшие саркофаг городские власти решительно воспротивились. Пришлось Николаше ограничиться посаженным на цепь леопардом.
О задаваемых в «Черном лебеде» роскошных пирах для богемы судачила вся Москва. Сумасбродство и швыряние деньгами русского Лоренцо Медичи, получившего от москвичей и схожее, но несколько уничижительное прозвище Лаврентий Великолепный, разумеется, порицалось, но передаваемые из уст в уста рассказы об «афинских ночах», о «жрицах любви, облаченных лишь в наготу», думаем, сильно тревожили воображение совсем еще не испорченных тогда москвичей…
Брат Николаши Владимир, любивший все обобщать, вычитал в одном древнем старообрядческом стихе о четырех заповедях Господа (крест и молитва, любовь и милостыня, ночное моление и читательная книга) и попытался сделать краткий обзор: как исполняли эти заповеди русские купцы. Рассуждая о «читательной книге», он приводит ряд блестящих имен — собирателей древних рукописей, издателей, владельцев уникальных библиотек: Хлудова, Бахрушина, Солдатенкова, но вот ведь какая штука: «беспутный» брат его тоже может занять достойное место в том же славном ряду. Не за «афинские ночи», конечно, а за журнал, который ему пришло в голову издавать.
Сама идея такого журнала была заманчива и красива. Название его было взято не из древней легенды, а из поэтического рассказа А. Белого «Аргонавты». Главный герой в нем — писатель, мастер, магистр, захваченный идеей переселения человечества с Земли, ставшей для свободных людей невыносимой, на Солнце. Чтобы претворить ее в жизнь, нужно было «зажечь сердца», «навести на мир позолоту», залить его «жидким Солнцем». «Буду издавать журнал „Золотое руно“, — решает мечтатель, — сотрудниками моими будут аргонавты, а знаменем — Солнце»...
При всей этой поэтической привлекательности многим затея Рябушинского не понравилась. Мало кто верил, что у «беспутного» Николая, еще очень молодого (29 лет!), не имевшего к тому же и достаточного образования, может вдруг получиться и что-то путное. Полагали, что это очередная блажь богатенького купчика, что он берется не за свое дело, что в лучшем случае журнал будет не желанным продолжением, а лишь «сколками» с прекратившего в 1904 г. свое существование дягилевского «Мира искусства». Видевшийся с Рябушинским в 1906 г. Александр Бенуа не поленился даже написать предупредительное письмо своему другу Сомову, согласившемуся сотрудничать с «Золотым руном»: «Костя! благородный Костя, бессребреник! Что тебя прельстило? Что тебе посвятят номер? Так ли уж это приятно… Да ведь это форменное водворение мерзости запустения в месте святом!.. Ну и на здоровье. Пусть Рябушинский, пусть настанет царство русского московского хамства. Туда и дорога, значит, нам всем грош цена, что стоило приехать золотому тельцу, чтобы мы все побросали и пошли ему кадить. И ведь все. Самое лучшее!..»
Вокруг журнала действительно собралось «все самое лучшее», но кадить Николаша никого не заставлял. Не давал он и почти никаких оснований видеть в нем «грядущего хама», но на появление первых номеров «Золотого руна» критики откликнулись почему-то с иронией, даже с бранью. Летом 1906 г. в лагерь врагов Рябушинского перешел и один из его ближайших сотрудников — Соколов (Кречетов). Чтобы «прикрыть зловонную лавочку Рябушинского», он начал строить всяческие козни, думая, что дальше нового года «Руно» все равно не протянет. «В этом направлении я сделаю все», — писал он в одном из писем, но, видно, слишком неравны были силы. Благодаря воле, твердости, уверенности и деньгам Рябушинского журнал не только выстоял, но, кажется, и более укрепился. Во всяком случае среди приглашаемых в «Золотое руно» художников и поэтов не было уже практически ни одного человека, который бы напрочь отказался от сотрудничества. Помещение редакции, шикарно обставленный особняк на Новинском бульваре, даже превратилось в место постоянных встреч художественной элиты Москвы и Санкт-Петербурга.
Для подсчета расходов и доходов журнала была заведена целая контора, но финансовые результаты выглядели плачевно. При довольно дорогой подписке (15 руб. на год), по отчету за 1906 г., к примеру, доход составил 12 000, а расход — 84 000. Получалось, что Рябушинский был не только вдохновителем журнала, но и вновь «расточительствовал», тратя на него свои деньги. Если и можно было его в чем-то обвинить, то именно в этом — в излишней щедрости. В день выхода первого номера он только рассыльному на чай подарил 100 руб. Для сотрудников на проводимых по четвергам вечерних приемах накрывались столы с шампанским, дорогими винами, сигарами, фруктами и лакомствами. На январском банкете по случаю годовщины существования «Золотого руна» в «Метрополе» на огромном столе была устроена грядка с 40 000 ландышей, а по краю и без того богато накрытого закусочного стола в подсвеченных разноцветными лампочками ледяных глыбах поместили и ведра с икрой. После такого закусочного гостей повели и к еще одному столу — обеденному с лукулловскими яствами…
Помимо редакционного особняка Рябушинский оплачивал еще и шикарный номер в «Метрополе», и постоянный стол в «Эрмитаже», на который каждое утро ставились свежие орхидеи, и особые услуги… поэта, специально выписанного для «Золотого руна» из Парижа. Чтобы знали там наших, журнал начал выходить одновременно на русском и французском языках. С переводами статей трудностей в редакции никаких не предвиделось, но взяться за перевод стихов на французский никто в Москве не отважился. Вот и пригласили на работу в редакцию Мерсеро, коренного француза, чтобы представлял он Европе русских талантов.
Через какое-то время, правда, отправившийся в Париж Рябушинский смог вполне убедиться там, что русское искусство крайне мало интересует французов, в то время как ему самому французский перевод доставляет массу хлопот. С седьмого номера «Золотое руно» поэтому решено было выпускать только на русском, и надобность в услугах Мерсеро отпала. Ему вроде бы отказались впредь и платить. Ожидали, что «оставшийся без гроша» и «изъеденный комарами в Малаховке» Мерсеро обратится в суд, что будет скандал, что и «сам» не придумает ничего лучшего, как заставить поэта подавать ему калоши и зонтик, но ничего подобного — француз по-прежнему и чуть ли не ежедневно заседал в «Золотом руне». Калош, разумеется, никаких и в помине не было. Вместо них Мерсеро стал помогать Рябушинскому устраивать выставки «Золотого руна» с приглашением на них французских художников.
Одну из них, открывшуюся в апреле 1908 г. в Москве в доме Хлудовых, небывалую по размаху, называют теперь легендарной (в 2008 г. Третьяковка даже откликнулась на ее 100-летний юбилей особой экспозицией). Столь представительного показа работ современных французских художников не было еще нигде в мире. Около 250 произведений, среди которых значились картины не вполне тогда оцененных Ренуара, Дега, Писсаро, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Матисса, Дерена… Всех направлений, даже и вовсе не признанного в то время кубизма.
Всего в Москве в 1908—1910 гг. состоялись три выставки «Золотого руна». На третьей, правда, участвовали только русские художники, в том числе и молодые авангардисты Машков, Кончаловский, Фальк. Состоявшиеся показы придали русской живописи мощный импульс к развитию. Благодаря сопоставлению внешних и внутренних, отечественных, творческих исканий были смело раздвинуты стеснявшие ее рамки. Надо признать только, что далеко не всеми новые направления в искусстве были встречены одобрительно. Трудно было обыкновенному русскому человеку смотреть на картины, в которых весь Божий мир вывернут наизнанку! Зеленые с лиловым женщины, фиолетовые мужчины, голубые мальчики, желтые небеса и синие деревья... «Что это — истеричное кривлянье или повальный психоз?» — недоумевали добропорядочные обыватели, не понимая, как им отнестись ко всем этим «уродливым» исканиям. Но этого тогда не понимали, а теперь вот готовы платить невероятные деньги и за желтые небеса, и за голубых мальчиков, и даже за безумно вырвавшийся крик.
В устройстве выставок «Золотого руна» была и большая заслуга Мерсеро. Он выступал посредником между своими соотечественниками и Рябушинским. Работа, видимо, не всегда шла у них гладко, так что не знавшему до того ни одного русского слова французу пришлось овладеть в совершенстве всякими непечатными ругательствами. Еще одним «драгоценным» его приобретением, с которым он вернулся во Францию, была супруга, сестра жены одного московского чиновника. Собственно, француз как раз и влюбился в эту жену, предложив ей убежать с ним от мужа в Париж. Та, не очень долго раздумывая, согласилась, но план поправила. «Без заграничного паспорта, — сказала она поэту, — убежать нельзя. И вот что мы сделаем. Ты женишься на мой сестре, она получит паспорт, а я приду вас провожать. В последний момент в вагон войду я, а сестра останется». На том и порешив, сыграли пышную свадьбу. Возлюбленная Мерсеро, как и было условлено, пришла на вокзал, но в нужный момент в вагон не вошла, а только помахала платочком. Так и уехал поэт с законной супругой, не слишком красивой и не знавшей к тому же ни одного французского слова. Кто тут кого обманул — не сразу и скажешь. Приехав во Францию, новоиспеченная мадам Мерсеро пришла в ужас. «Ну и ну, — разочарованно выдохнула она, — да у вас тут поэты живут хуже, чем у нас приказчики!»…
Помимо выставок в заслугу «Золотому руну» ставят и организацию издательства для выпуска книг близких журналу авторов. Первыми были выпущены «Злые чары» Бальмонта, сразу же запрещенные цензурой. Потом появились книжки Ремизова, Сологуба… Самым значительным изданием «Золотого руна» называют «Очерки по истории русского искусства» профессора А. Успенского, заставившие русского читателя по-новому взглянуть на творчество отечественных мастеров. Ну а последней крупной инициативой «Золотого руна», к сожалению не осуществленной, стало предложение создания акционерного общества по постройке в Москве специального выставочного здания — Дворца искусств с постоянно действующим при нем музеем, охватывающим все отрасли искусства. На строительство дворца потребовалось бы собрать 500 000, но у самого Рябушинского таких денег давно не было, а привлечь к делу других богатых людей он так и не сумел. Не сумел он и хотя бы год или два удержать на плаву разорительное для него «Золотое руно». В 1909 г. из-за отсутствия средств издание журнала фактически прекратилось, хотя последние его номера допечатывались и в 1910 г.
Всего около четырех лет издавал Рябушинский «Золотое руно», но след им в русской литературе был оставлен необыкновенно яркий. Блиставший золотом, большой, роскошно оформленный, выполненный на прекрасной веленевой бумаге, украшенный виньетками, заставками и концовками, насыщенный огромным количеством иллюстраций, он отличался также завидным содержанием. Его авторами были Блок, Брюсов, Бальмонт, Бунин, Белый, Волошин... На его страницах читатель знакомился с художественным наследием (древнерусским искусством, работами Венецианова, Ге, Иванова, Ф. Толстого…), с картинами Врубеля (ему был посвящен первый номер журнала), Борисова-Мусатова, Сомова, Бенуа, Бакста, Лансере, Нестерова, Рериха, Сарьяна, Ларионова, Гончаровой…
Утверждают, и справедливо, наверное, что подкосили Рябушинского не только выставочные и журнальные траты. В постоянно менявшихся роскошных автомобилях по-прежнему видели с ним обольстительных женщин, из-за одной он даже попытался покончить с собой, выстрелив в грудь (причиной тут, правда, могла быть и обыкновенная меланхолия). По-прежнему он закатывал умопомрачительные пиры и необыкновенные праздники вроде «праздника роз» в Кучино с музыкантами и фейерверками. По-прежнему шумно кутил в ресторанах. По-прежнему одаривал знакомых подарками, часто весьма оригинальными. Известной актрисе пообещал прислать что-нибудь из деревни и приказал послать ей бочку… с затиснутым в нее спящим медведем! Были еще и карты. По слухам, нефтепромышленнику Манташеву он за одну только ночь проиграл то ли миллион, то ли своего «Черного лебедя». Но перечеркивает ли все это заслуги Николая Рябушинского перед русским искусством? Хуже ли мы станем относиться к Пушкину да и любому другому творцу, узнав, что и они проигрывали в карты, что и они меняли женщин?
Бывает так (и сегодня), что дают деньги, и рассчитывают на сиюминутную благодарность, и ждут скорейшей отдачи. С «Золотым руном» все было не так. Письма, документы, воспоминания, все говорит о том, что Рябушинский был не только кошельком, он был еще и сердцем журнала, придуманного им и издаваемого не по каким-то расчетам, но чтобы «зажечь сердца» и «навести на мир позолоту». Чтобы истомившиеся от земной тоски люди поняли наконец, что жить без Красоты нельзя, что Чистое Искусство — свободно и вечно! Ибо знаменем его является Солнце.
***
В 1911 г. он распродаст часть своей коллекции с аукциона, что-то погибнет в пожаре на вилле, что-то потом национализируют большевики. В 1914 г. он уедет в Париж, но в 1917-м почему-то вернется. Будет работать консультантом, оценщиком, даже участвовать на выставках. В 1922-м он снова переберется во Францию и проживет там довольно долгую жизнь, продолжая заниматься искусством: организовывать работу антикварных салонов и магазинов, устраивать выставки, в том числе и персональные, в 1930 г. близ Ниццы он открыл художественную галерею, назвав ее «Голубая роза». Умер Николай Павлович в апреле 1951 г. в больнице, после операции, попросив передать последний привет сестрам и братьям, женщинам, которых любил, и друзьям.