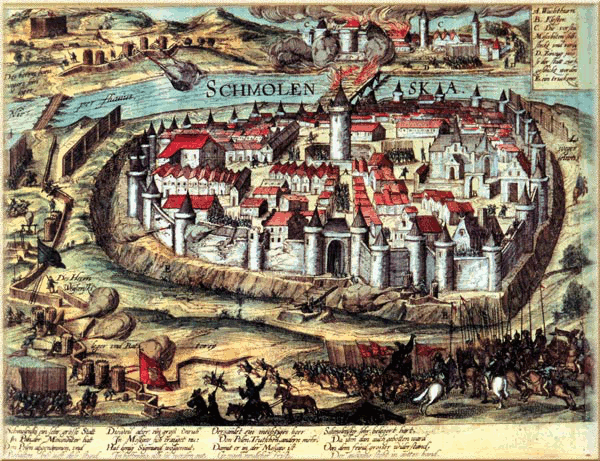20 (30) сентября 1609 г. гарнизону Смоленска был послан ультиматум о сдаче города. Защитники крепости отвечали полякам, что они дали обет помереть всем «за православную веру, за царя и за царское крестное целование, а их королю отнюдь не поклониться». Этот гордый ответ был вызван не только крепкими стенами и неустрашимым духом смолян, но и надеждой на то, что Москва не оставит их город в беде. О том, что им придется сражаться в одиночку и удерживать город долгие-долгие месяцы, страшно было бы и подумать.
Лжедмитрий I, воровски занявший престол, провластвовал в Москве очень недолго. 17 мая 1606 г. ударили в набат, и возбужденная боярами толпа кинулась бить поляков. Пытаясь спастись, самозванец выбрался в окно и, оступившись, упал с большой высоты. Подобравшие его еще живым стрельцы потребовали, чтобы царица Марфа подтвердила, что он ее сын. Марфа велела передать им, что «ее cын убит в Угличе». «Что и толковать тогда с еретиком», — выступил вперед сын боярский Валуев. И выстрелил в упор.
Вслед за первым Лжедмитрием явился второй. В то, что убили не царя, а его двойника, верили многие даже и в Москве. Рассказывали, что волосы у убитого оказались чересчур длинными, что его секретарь не нашел на теле приметного знака, что какой-то дворянин, взглянув на труп, сразу сказал, что никакой это и не царь…
Кем на самом деле был новый «вор», неизвестно. Версий много. Кто-то утверждает, что он был сыном стрельца, кто-то, что сыном попа. В отцы ему записывали даже шкловского еврея. Кажется, эта версия и наиболее близка к истине. В одном из писем царя Михаила Федоровича прямо говорится, что «Сигизмунд послал жида, который назвался Димитрием». В том, что на Русь его послал польский король, тут еще можно сомневаться, но то, что за спиной у самозванца стояли польские шайки, уже вовсю хозяйничавшие в пределах Руси, — вещь уж совсем очевидная. Осадивший в 1608 г. Троицкий монастырь Сапега похвастался раз за столом, что именно поляки «посадили на трон государя, который должен был называться сыном тирана, несмотря на то что им не был» и что теперь они же «во второй раз привели сюда государя, который тоже должен будет называться Димитрием, даже если русские от этого сойдут с ума»…
Вокруг «приведенного поляками государя» довольно скоро собралась большая сила, и в июне 1608 г. самозванец был уже под Москвой. Свою ставку он устроил в Тушине, почему и закрепилось за ним прозвище «Тушинский вор». Марина Мнишек, недавняя вдова, «сошла с ума» одною из первых. Пробравшись к неизвестному ей до того «царику», она с легкостью признала в нем своего мужа и вновь обратилась в царицу. По образцу Москвы при «воре» был образован и двор, учреждены приказы и Боярская дума, составленная из перебежчиков…
Около года в Тушине же находился и ростовский митрополит Филарет, отец Михаила Федоровича. Его взяли в плен и отвезли к самозванцу. «Вор» обошелся с ним милостиво. Возвел даже в патриаршее достоинство. Честь, понятно, сомнительная, но до подобных милостей оказалось в Москве много охотников. Вот только что целовали крест Шуйскому, и вот они же целуют крест в Тушине. Сильные разумом «повергались от всего этого в прах», родственники же перебежчиков хвастались. Вот, мол, как ловко у них придумано: если падет Москва, то тушинская родня не даст им пропасть, если же Москва одолеет, то тогда уж нам их спасать…
Власть Лжедмитрия меж тем продолжала укрепляться. Уже подчинились ему и Ярославль, и Кострома, и Владимир, и Псков… Но денег на войско все равно не хватало. Пришлось даже разделить страну «на кормления». Выделенные земли опустошались тушинцами дочиста, так что где-то начались даже и восстания. В результате положение Шуйского несколько улучшилось, но ему все равно пришлось просить шведов о помощи.
По подписанному договору царь уступал Корелу, а Швеция обязывалась прислать ему свое войско. В начале 1609 г. в Новгород к племяннику царя Михаилу Скопину-Шуйскому явился шведский отряд под началом Делагарди. Соединив его с собранными русскими частями, Скопин стал очищать города от тушинцев. Порхов, Орешек, Торопец. В битве при Торжке Михаилу помог отряд из не осажденного еще Смоленска… В июле была взята Тверь, в августе Калязин. Этим же летом был взят Переяславль. Укрепив его, Скопин отошел в Александровскую слободу, где тоже велел сделать укрепления. Подошедший к слободе Сапега попытался ее захватить, но не смог и вернулся к Троицкому монастырю. Через какое-то время он ушел от монастыря к Дмитрову, а в конце февраля 1610 г., при подходе Скопина, оставил и Дмитров, двинувшись к Смоленску. Скоро опустело и Тушино.
Внешне все выглядело так, что, убоявшись Скопина, тушинцы бежали от Москвы без оглядки. То, что Смоленск здесь играл важнейшую роль, еще никак не осознавалось, и Михаила встречали в Москве как великого победителя. Народ бил князю челом, называя его отцом родным и освободителем. «Освободителю» шел в ту пору 24-й год, и он еще сумел бы показать себя великим воином, вот только жить ему оставалось совсем немного.
В апреле он был приглашен к Воротынским на крестины, где, как рассказывают, жена Дмитрия Шуйского, брата царя, поднесла куму чашу с отравленным вином. Промучившись несколько дней, Михаил скончался. Оснований для подозрений в убийстве достаточно. У Василия Шуйского детей не было. Дмитрий числился в наследниках, но как там сложится дело, при невероятной популярности Михаила, было неизвестно. Рассказывают еще, что завидуя Михаилу, Дмитрий постоянно наговаривал на него царю. Тот даже вынужден был прогнать его как-то палкой…
Предлогом для начала войны послужил Сигизмунду договор, заключенный Шуйским со Швецией, но действительной причиной была слабость Московского государства, истерзанного Смутой. Тут мог легко он достичь, как ему казалось, огромных выгод. Одним бы Смоленском, полагаем, не ограничился, но этот город всегда был для Польши лакомым куском. Овладеть им Сигизмунд хотел в первую очередь.
16 лет выстраивали в Смоленске стены и башни. Фундамент увели в землю на глубину более 4 м, толщину стен довели до 5—6 м, а высоту до 13—19! Четыре яруса амбразур с пушками, склады с оружием и продовольствием, гарнизон в пять с лишним тысяч человек, храбрый и умелый начальник… Оборона крепости выглядела безупречно. Гетман С. Жолкевский вынужден был доложить Сигизмунду, что проще всего сразу идти армией на Москву. Легко представить себе, что было бы тогда с Москвой, но королю казалось, что уйди он от города, честь его будет задета…
Датой штурма определили ночь на 25 сентября. Решено было действовать через Копытецкие и Авраамиевские ворота. Взорвать удалось только Авраамиевские, и через них дважды врывался в крепость один из отрядов, но основные силы поляков, не услышав почему-то сигнала, замешкались. Защитники же крепости оказались начеку. Они открыли по противнику сильный огонь, заставив его в панике отступить.
Потерпев неудачу у ворот, поляки повели атаку на северный и западный участки стены. Штурм продолжался три дня, но оказался безуспешным. 27 сентября в помощь Сигизмунду подошло войско запорожцев, и можно было бы продолжить штурм, но Сигизмунду уже вполне было ясно, что без тяжелой осадной артиллерии не обойтись. В ожидании пока ее подвезут, решено было заняться рытьем подкопов. Узнавший об этом Шеин приказал к уже готовым «слухам» рыть новые. В январе 1610 г. смоляне натолкнулись на польский подкоп, перебили в нем всех, а затем взорвали и саму галерею. Через несколько дней поступили иначе: установили в откопанной поляками галерее пушку, зарядили ее «смрадным» составом и выстрелили…
Весной 1610 г. к королю подошли новые подкрепления, и соотношение сил для защитников города резко ухудшилось. На одного их воина теперь приходилось более десяти человек во вражеском стане. Трудность положения усугублялась еще и тем, что людей в крепости начало выкашивать какое-то моровое поветрие. Зимой хоронили по 20—40 человек в день, весной уже по 100 и по 150. В мае какой-то перебежчик рассказал полякам, что только после Пасхи (29 марта) в крепости схоронили 14 000 человек.
Людей в крепости собралось несколько десятков тысяч: из сожженных посадов, из занятых поляками городов. Жилья на всех не хватало, жили чрезвычайно скученно, даже в землянках. Заготовленное Шеиным продовольствие предназначалось воинам. Укрывавшимся в крепости людям приходилось его покупать у торговцев, но не у всех были деньги… Не хватало и дров, воды для питья. Протекающие ручьи загрязнялись стиркой и нечистотами, хотя и приняты были запретительные меры… Неудивительно, что столько людей болело и умирало.
Казалось бы, смоляне должны были стать уступчивее, но посылаемые к ним уговорщики лишь напрасно тратили время.
Защитники города отвечали всем, что целовали крест русскому царю и что «скорее собственными руками умертвят своих жен, чем согласятся видеть их в руках поляков». В эту весну у них еще сохранялась надежда на помощь Москвы…
Русско-шведская армия под командованием «отравителя» Скопина Дмитрия Шуйского выступила к Смоленску в мае. Сигизмунд, не снимая осады, направил навстречу ей отряд Жолкевского. В пути он усилился тушинцами. Встреча поляков с авангардом армии Шуйского произошла у Царева Займища. После упорного сражения отряд Валуева и Елецкого вынужден был перейти к обороне. В помощь ему вышли из Можайска главные силы. Жолкевский не стал их дожидаться на месте, а двинулся ночью навстречу. Дмитрий Шуйский и Делагарди, расположившиеся с войском у Клушина, не позаботились даже о разведке, настолько они были уверены в победе. Превосходство в силе было впечатляющим. Трехкратным, может, еще и большим. Делагарди даже хвалился, что одарит плененного Жолкевского собольей шубой, в память того, что ранее гетман подарил ему рысью…
Подойдя к рассвету к русскому лагерю, Жолкевский объявил общую атаку. Шведская пехота успела несколько задержать польскую конницу, но в русской части войска построение оказалось неверным. Конницу поставили впереди пехоты и, отступая под натиском противника, она расстроила боевые порядки. Шуйский все это время сидел в обозе и был чрезвычайно пассивен. Шведы, выдержав без его помощи несколько атак, отошли в свой лагерь. Здесь Жолкевский предложил им почетную капитуляцию, и они ее приняли. С предательством шведов русское войско окончательно расстроилось и бросилось в бегство. Шуйский, «хитро» разбросав по лагерю меха и драгоценности, бежал с поля боя чуть ли не первым. Конь его увяз в болоте, и в Можайск он приехал на какой-то крестьянской лошадке…
В Смоленске меж тем заработали подвезенные к городу стенобитные машины. По всему было видно, что готовится новый штурм. Чтобы устоять в нем, в крепости укрепляли ворота насыпями, готовили и вторую линию обороны, на случай, если поляки проломят стены. Посланный ультиматум с предложением «перестать упорствовать» Шеин не принял. К вечеру 18 июля полякам удалось разрушить одну из башен, и почти всю ночь готовили они штурмовые орудия. Смоляне тоже трудились не покладая рук. Заделав наспех пролом, они подтащили к нему пушки, огонь которых помог им отбить предпринятую под утро атаку. Одновременно около 500 казаков попытались ворваться в крепость через стены, но тоже не сумели этого сделать из-за сильной ответной пальбы.
Днем поляки усилили огонь по разбитой башне и сумели расширить сделанный накануне пролом до двух саженей, а 20 июля начался новый штурм. По нападавшим был открыт орудийный огонь с ближних башен, заставивший их отступить. Тогда поляки повели огонь по этим башням, чтобы и в них сделать проломы. Им это удалось, и 11 августа они предприняли новую ожесточенную атаку. В крепости готовились к ней с еще большим усердием. Укрепляли разбитые башни, увеличили земляной вал и в засыпанных землей срубах поставили четыре большие пушки, а по бокам еще четыре, для стрельбы картечью. Защищались смоляне и в этот раз с невероятным мужеством, будто и не придав никакого значения разгрому шедшего им на помощь войска: побивали врага не только из орудий и ружей, но и камнями, засыпали им глаза песком, бросались врукопашную, удивляя своей доблестью даже болезненно гордых поляков…
Василия Шуйского после Клушина свергли с престола. Его насильственно постригли в монахи, а в сентябре выдали Жолкевскому, который отправил его с братьями Дмитрием и Иваном к Сигизмунду — для похвальбы. Пришедшая к власти боярская дума избрала на престол королевича Владислава, оговорив это избрание рядом условий (о прекращении осады Смоленска; о принятии королевичем греческой веры; о том, чтобы он не приводил с собой много поляков и пр.). После одобрения патриархом Гермогеном заключенного таким образом договора были приведены к присяге бояре с дворянами и весь люд московский. Жолкевский с другими панами присягнули за Владислава, короля и всю Польшу.
В сентябре для подтверждения договора к Сигизмунду было отправлено большое посольство во главе с Филаретом (за тушинский эпизод Гермоген его оправдал) и князем Голицыным. В сентябре же бояре совершили прямое предательство: впустили в Москву польское войско, уступив тем самым полякам и реальную власть.
У Сигизмунда с августа велись переговоры с посланцами «вора», убежавшего из Тушина в Калугу. Он просил короля ему не мешать и за то обещал выплачивать по 300 000 злотых в течение десяти лет. В королевском совете рассудили, что странно было бы отдавать «вору» Москву, если она сама падает в руки. Да и бесчестно будет для короля иметь дело с обманщиком. «Да, — соглашались послы, — неизвестно, кто он таков, но лучше иметь дело с ним. Попробуйте заикнуться боярам об уступке провинций, увидите, что они скажут. Они и Владислава сажают с условиями, а Дмитрий все будет делать для Польши…» Начали за здравие, а кончили все же за упокой. Согласились от обманщика отложиться — за плату. Сразу сторговаться не получилось, но позднее король все же переманил тушинских поляков на свою сторону.
Московские послы прибыли к Смоленску в начале октября. Внешне их приняли с честью, но содержать стали в холоде и голоде. Уже в первые дни выяснилось, что ни по одному пункту условий согласия у сторон нет. О крещении Владислава поляки говорили, что королевич уже крещен (в католичество), а «другого крещения нигде не писано». Снять осаду Смоленска они тоже отказывались, объясняя это стремлением короля успокоить русские города. Потом оказалось, что Смоленск — это вообще «вековая польская отчина» и уже поэтому его должны сдать. «Но ведь был договор, скрепленный Жолкевским?!» — пытались было возразить послы, но им отвечали, что королю нет никакого дела до гетмановской записи. Стали требовать даже, чтобы Москва оплатила королю военные расходы. «За что? — разводили руками послы. — За разорение?» Когда обратились они к Жолкевскому, чтобы подтвердил он польские обязательства, гетман отвечал, что о том, что написано в бумаге, он не ведает, ибо подписал ее «не глядючи».
Склоняя послов к уступчивости, Жолкевский говорил им, что стыдно королю отступать, не взявши Смоленска. О том же заявлял послам и сам Сигизмунд. От него, мол, требует этого «рыцарский гонор». «Рыцарский гонор» короля потребовал еще, чтобы крест в крепости целовали не одному королевичу, но и ему самому. Он, видимо, не прочь был и сам занять русский престол, ну а уж со Смоленском расстаться он никогда бы не согласился. Наконец, прибегли и к использованной в Москве хитрости: послов стали уговаривать, чтобы впущены были в Смоленск польские воины! Филарет стоял за то, чтобы никого в Смоленск не пускать. «В крепости скорее умрут, чем впустят поляков», — поддержали его и бывшие при посольстве смоленские дворяне.
Раздраженные неуступчивостью послов, поляки пригрозили им новым штурмом, сказав, что «Смоленска они больше терпеть не будут, не оставят в нем камня на камне!» На переговоры это уже никак не походило, и легко понять, что творилось в душах послов. Со слезами они просили не устраивать нового штурма, но и слезы их не подействовали.
21 ноября от мощнейшего взрыва вырвало часть стены в десять сажень, и в образовавшийся проем волной хлынули польские отряды. Но за стеной их встретил земляной вал со стоящими на нем в несколько рядов воинами, готовыми умереть, но не сдаться! Три раза поляки бросались в пролом, но всякий раз отходили из-за ожесточенного сопротивления. Для русских послов весь этот день был невыносимой пыткой…
Месяц спустя привезена была из Москвы изменническая грамота с наказом целовать крест королю. Подписи патриарха на ней не было. Гермоген отказался ее подписывать, за что его чуть было не зарезали. Кончилось тем, что поляки взяли патриарха под стражу. Принимать полученную бумагу за наказ послы отказались. «Хотя бы мне смерть принять, — сказал Филарет, — а я ничего делать не буду». Дело после этого совсем перестало продвигаться вперед, и Сигизмунд тогда письменно заявил Боярской думе о своем неудовольствии. В результате в Смоленск было отправлено повторное приказание. «Вам бы, господа, — говорилось в нем, — грамот не ослушатися, и… литовских бы людей в город пустити».
По условиям, предложенным Сигизмундом, смоляне должны были впустить в крепость 350 человек, принести повинную и оплатить военные убытки. Трудно было уже Шеину и послам стоять на прежних позициях. Людей, способных держать оружие, в крепости уже почти не осталось. Польские условия смолян не во всех пунктах устраивают, и они их поправляют: Смоленск остается за Москвой; в город входят не 350 человек, а 200, и при этом король должен покинуть пределы государства, убытки ему Смоленск платить не будет.
К Москве меж тем подошли ополченцы Ляпунова. Запаниковав, поляки с немцами бросились на москвичей, и началась страшная резня. Погибли тысячи безвинных людей, и из-за пожара тысячи же погорельцев остались без крова… «Кто мы теперь, не знаем, — недоумевали послы, — и со Смоленском не знаем, что делать: если смоляне узнают, что королевские люди Москву выжгли, то побоятся, чтоб и с ними того же не случилось». «Одно только средство, — продолжал убеждать поляков Филарет, — отойдите от Смоленска и утвердите договор. Тогда мы напишем подмосковному войску, чтоб оно разошлось».
«Не тогда, а теперь же пишите», — потребовали от митрополита. «Все перетерплю, а этого не сделаю», — отвечал Филарет. «Ну так поедете все в Польшу», — потеряли терпение поляки. 12 апреля послов схватили, ограбили и, объявив пленниками, отправили в заточение. Тоже, видимо, по причине «рыцарского гонора» короля…
Смоленск теперь остался совсем один. И свободным от обязательств. Перед кем было отвечать теперь его защитникам? Только перед собственной совестью. Они уже продержались более полутора лет. Столько, сколько не продержался даже великий Рим, осажденный готами. Они продержатся и еще почти два месяца. Будут подвезены к Смоленску новые осадные орудия, будут заложены еще более мощные мины, но и с оставшейся горстью воинов они будут стоять до конца.
Пятый по счету штурм начался 2 июня. Мощным обстрелом была пробита новая брешь, а к ночи противник собрал для атаки огромные силы. Ее повели сразу по нескольким направлениям. Через пролом, через стены в разных местах, через Крылошевские ворота, которые сумели каким-то образом подорвать. Что тут могла сделать пара сотен человек, еще способных держать оружие? Но дрались они все с невероятным ожесточением. Бились всю ночь «при звуках колоколов и пении в церквях». Бились окруженными, исколотыми, вконец обессиленными…
К утру некому уже было биться. Не осталось и в домах почти никаких жителей. Три тысячи их собрались в выстроенном в древние лета Успенском храме на последнюю тризну. Все, что было из ценностей, побросали они в охвативший крепость огонь, чтобы ничего не досталось проклятым ляхам, и теперь прощались друг с другом, готовясь исполнить клятву: умереть, а литовскому королю не покориться.
Последним, что они увидели и услышали, был огонь, вырывавшийся из подвалов, и страшный по силе грохот… Один из поляков рассказывал потом, что это Белавин, любимец Шеина, зажег под собором порох. Дошли до нас и имена множества других героев бессмертного гарнизона, состоявшего по большей части из обыкновенных посадских людей: Сенки-кузнеца, Олфимки-мясника, Кондрашки-сапожника, Исака-портного… Вечная им память и слава!
Раненого Шеина долго потом допрашивали, и в особенности хотели узнать, кто ему советовал так долго удерживать крепость. «Никто особенно не советовал, — отвечал воевода, — потому что никто не хотел сдаваться!»